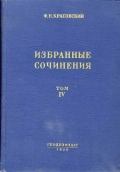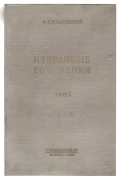С именем выдающегося советского геодезиста и ученого Феодосия Николаевича Красовского связана яркая эпоха развития отечественной научной мысли в области геодезии, эпоха возникновения и развития советской геодезической науки, основоположником и долголетним руководителем которой он являлся. На протяжении своей почти полувековой деятельности он разработал главнейшие научные и методические принципы, на которых начали и продолжают развиваться основные астрономо-геодезические работы СССР. В течение первых 30 лет развития совет ской геодезии он являлся активным участником почти всех важнейших научных, технических и организационных мероприятий в области геодезии.
Как известно, Ф. Н. Красовский принадлежал к числу тех крупных ученых, которые в своих работах не только широко охватывают избранную ими область науки, но занимаются и вопросами смежных с нею областей знания, взаимно развивая их и внося в них свой большой вклад. Так, работая главным образом в области высшей геодезии, он много занимался также вопросами картографии, практической астрономии и гравиметрии. При этом в каждом из указанных направлений его исследования ознаменовались постановкой и решением ряда принципиальных научных вопросов, имеющих большое практическое значение.
По имеющимся данным, Ф. Н. Красовским опубликовано более 120 научных работ, которые охватывают период с 1901 г. по 1947 г.