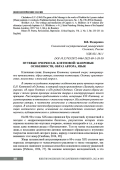Предметом изучения в статье является русская рок-поэзия, авторы которой стремятся преодолеть культурный и личностный распад посредством обращения к классической литературе и эстетике абсурда.
В качестве центральных и вместе с тем опорных фигур русской культуры рок-поэт выбирает или Пушкина, или Достоевского, и его самоопределение - самоопределение гения ХХ-ХХI веков - происходит именно на пересечении мифов о двух, на первый взгляд, полярных культурных героях («солярном» Пушкине и «теневом» Достоевском).
Апелляция к фигурам Пушкина и Достоевского, а также культурный диалог с их творчеством происходит следующим образом: с одной стороны, заметно снижение гения до своего уровня, а с другой - культурное воскрешение, утверждение, реактуализация и адаптация к новым контекстам тем и мотивов творчества, которые охватывают основы русской духовной культуры.
Цель исследования - доказать посредством интертекстуального подхода, что рок-поэзия может относиться к явлениям элитарной культуры, поскольку ценностная парадигма текстов рок-поэтов традиционно выстраивается посредством соположения идеального и реального планов. Сам же рок-исполнитель - «невольник чести» и «поэт», который неизменно поставлен в оппозицию к окружающей его действительности. Абсурдистская эстетика, приемы комизма и деконструкции «подновляют» и вместе с тем усложняют давно знакомый образ.