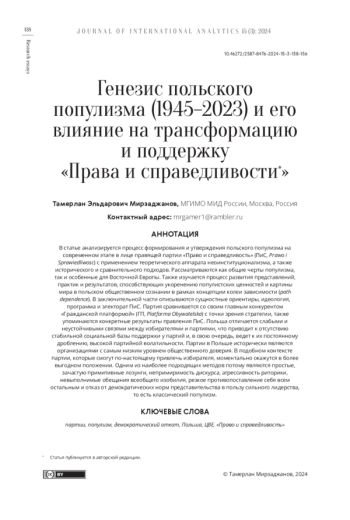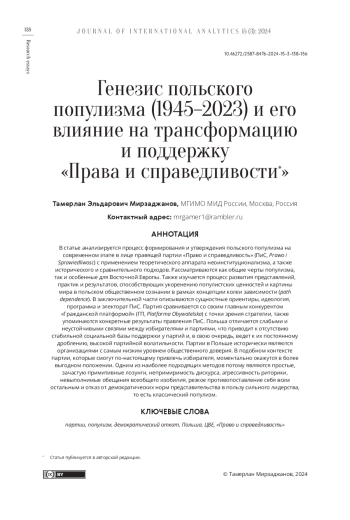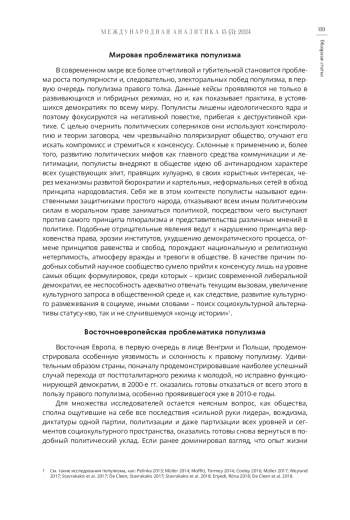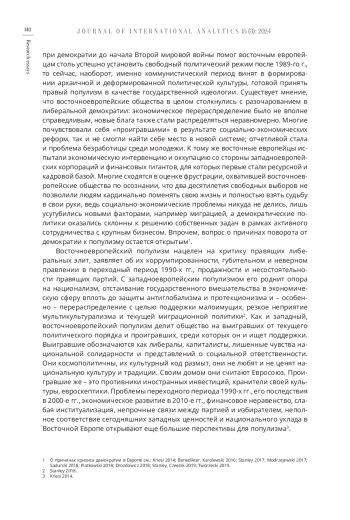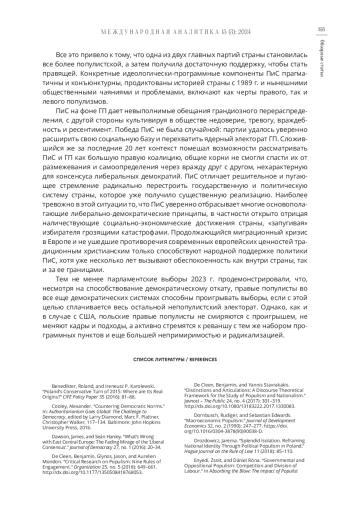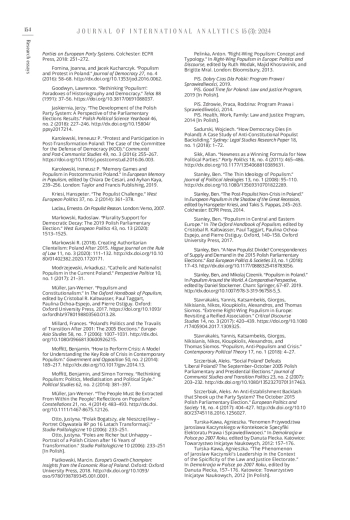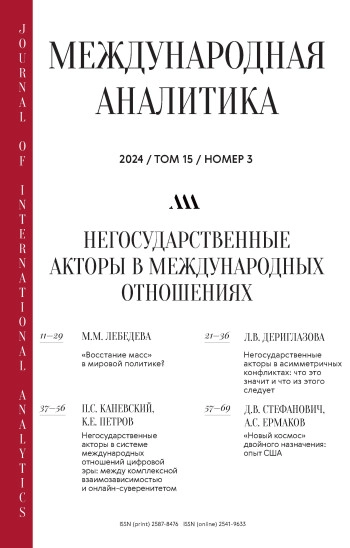В статье анализируется процесс формирования и утверждения польского популизма на современном этапе в лице правящей партии «Право и справедливость» (ПиС, Prawo i Sprawiedliwosc) с применением теоретического аппарата неоинституционализма, а также исторического и сравнительного подходов. Рассматриваются как общие черты популизма, так и особенные для Восточной Европы. Также изучается процесс развития представлений, практик и результатов, способствующих укоренению популистских ценностей и картины мира в польском общественном сознании в рамках концепции колеи зависимости (path dependence). В заключительной части описываются сущностные ориентиры, идеология, программа и электорат ПиС. Партия сравнивается со своим главным конкурентом «Гражданской платформой» (ГП, Platforma Obywatelska) с точки зрения стратегии, также упоминаются конкретные результаты правления ПиС. Польша отличается слабыми и неустойчивыми связями между избирателями и партиями, что приводит к отсутствию стабильной социальной базы поддержки у партий и, в свою очередь, ведет к их постоянному дроблению, высокой партийной волатильности. Партии в Польше исторически являются организациями с самым низким уровнем общественного доверия. В подобном контексте партии, которые смогут по-настоящему привлечь избирателя, моментально окажутся в более выгодном положении. Одним из наиболее подходящих методов потому являются простые, зачастую примитивные лозунги, непримиримость дискурса, агрессивность риторики, невыполнимые обещания всеобщего изобилия, резкое противопоставление себя всем остальным и отказ от демократических норм представительства в пользу сильного лидерства, то есть классический популизм.
Идентификаторы и классификаторы
В современном мире все более отчетливой и губительной становится проблема роста популярности и, следовательно, электоральных побед популизма, в первую очередь популизма правого толка. Данные кейсы проявляются не только в развивающихся и гибридных режимах, но и, как показывает практика, в устоявшихся демократиях по всему миру. Популисты лишены идеологического ядра и поэтому фокусируются на негативной повестке, прибегая к деструктивной критике. С целью очернить политических соперников они используют конспирологию и теории заговора, чем чрезвычайно поляризируют общество, отучают его искать компромисс и стремиться к консенсусу. Склонные к применению и, более того, развитию политических мифов как главного средства коммуникации и легитимации, популисты внедряют в обществе идею об антинародном характере всех существующих элит, правящих кулуарно, в своих корыстных интересах, через механизмы развитой бюрократии и картельных, неформальных сетей в обход принципа народовластия. Себя же в этом контексте популисты называют единственными защитниками простого народа, отказывают всем иным политическим силам в моральном праве заниматься политикой, посредством чего выступают против самого принципа плюрализма и представительства различных мнений в политике.
Список литературы
1. Benedikter, Roland, and Ireneusz P. Karolewski. “Poland’s Conservative Turn of 2015: Where are Its Real Origins?” CIFE Policy Paper 35 (2016): 81-88.
2. Cooley, Alexander. “Countering Democratic Norms”. In: Authoritarianism Goes Global: The Challenge to Democracy, edited by Larry Diamond, Marc F. Plattner, Christopher Walker, 117-134.
3. Baltimore: John Hopkins University Press, 2016. Dawson, James, and Seán Hanley. “What’s Wrong with East Central Europe: The Fading Mirage of the ‘Liberal Consensus’”. Journal of Democracy 27, no. 1 (2016): 20-34.
4. De Cleen, Benjamin, Glynos, Jason, and Aurelien Mondon. “Critical Research on Populism: Nine Rules of Engagement”. Organization 25, no. 5 (2018): 649-661. DOI: 10.1177/1350508418768053
5. De Cleen, Benjamin, and Yannis Stavrakakis. “Distinctions and Articulations: A Discourse Theoretical Framework for the Study of Populism and Nationalism”. Javnost - The Public 24, no. 4 (2017): 301-319. DOI: 10.1080/13183222.2017.1330083
6. Dornbusch, Rudiger, and Sebastian Edwards. “Macroeconomic Populism”. Journal of Development Economics 32, no. 2 (1990): 247-277. DOI: 10.1016/0304-3878(90)90038-D
7. Drozdowicz, Jarema. “Splendid Isolation. Reframing National Identity Through Political Populism in Poland”. Hague Journal on the Rule of Law 11 (2018): 85-110.
8. Enyedi, Zsolt, and Dániel Róna. “Governmental and Oppositional Populism: Competition and Division of Labour”. In Absorbing the Blow: The Impact of Populist Parties on European Party Systems. Colchester: ECPR Press, 2018: 251-272.
9. Fomina, Joanna, and Jacek Kucharczyk. “Populism and Protest in Poland”. Journal of Democracy 27, no. 4 (2016): 58-68. DOI: 10.1353/jod.2016.0062
10. Goodwyn, Lawrence. “Rethinking ‘Populism’: Paradoxes of Historiography and Democracy”. Telos 88 (1991): 37-56. DOI: 10.3817/0691088037 EDN: BJNEIJ
11. Jaskiernia, Jerzy. “The Development of the Polish Party System: A Perspective of the Parliamentary Elections Results”. Polish Political Science Yearbook 46, no. 2 (2018): 227-246. DOI: 10.15804/ppsy2017214
12. Karolewski, Ireneusz P. “Protest and Participation in Post-Transformation Poland: The Case of the Committee for the Defense of Democracy (KOD)”. Communist and Post-Communist Studies 49, no. 3 (2016): 255-267. DOI: 10.1016/j.postcomstud.2016.06.003
13. Karolewski, Ireneusz P. “Memory Games and Populism in Postcommunist Poland”. In European Memory in Populism, edited by Chiara De Cesari, and Ayhan Kaya, 239-256. London: Taylor and Francis Publishing, 2019.
14. Kriesi, Hanspeter. “The Populist Challenge”. West European Politics 37, no. 2 (2014): 361-378.
15. Laclau, Ernesto. On Populist Reason. London: Verso, 2007.
16. Markowski, Radoslaw. “Plurality Support for Democratic Decay: The 2019 Polish Parliamentary Election”. West European Politics 43, no. 13 (2020): 1513-1525.
17. Markowski R. (2018). Creating Authoritarian Clientelism: Poland After 2015. Hague Journal on the Rule of Law 11, no. 3 (2020): 111-132. DOI: 10.1080/01402382.2020.1720171 EDN: QHSKXY
18. Modrzejewski, Arkadiusz. “Catholic and Nationalist Populism in the Current Poland”. Perspective Politice 10, no. 1 (2017): 21-31.
19. Müller, Jan-Werner. “Populism and Constitutionalism”. In The Oxford Handbook of Populism, edited by Cristobal R. Kaltwasser, Paul Taggart, Paulina Ochoa-Espejo, and Pierre Ostiguy. Oxford: Oxford University Press, 2017. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198803560.013.28
20. Millard, Frances. “Poland’s Politics and the Travails of Transition After 2001: The 2005 Elections”. Europe-Asia Studies 58, no. 7 (2006): 1007-1031. DOI: 10.1080/09668130600926215 EDN: MJLNLN
21. Moffitt, Benjamin. “How to Perform Crisis: A Model for Understanding the Key Role of Crisis in Contemporary Populism”. Government and Opposition 50, no. 2 (2014): 189-217. DOI: 10.1017/gov.2014.13
22. Moffitt, Benjamin, and Simon Tormey. “Rethinking Populism: Politics, Mediatisation and Political Style”. Political Studies 62, no. 2 (2014): 381-397.
23. Müller, Jan-Werner. “‘The People Must Be Extracted From Within the People’: Refl ections on Populism”. Constellations 21, no. 4 (2014): 483-493. DOI: 10.1111/1467-8675.12126
24. Otto, Justyna. “Polak Bogatszy, ale Nieszczęśliwy - Portret Obywatela RP po 16 Latach Transformacji”. Studia Politologiczne 10 (2006): 233-251. Otto, Justyna. “Poles are Richer but Unhappy - Portrait of a Polish Citizen after 16 Years of Transformation”. Studia Politologiczne 10 (2006): 233-251.
25. Piatkowski, Marcin. Europe’s Growth Champion: Insights from the Economic Rise of Poland. Oxford: Oxford University Press, 2018. DOI: 10.1093/oso/9780198789345.001.0001
26. Pelinka, Anton. “Right-Wing Populism: Concept and Typology”. In Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse, edited by Ruth Wodak, Majid Khosravinik, and Brigitte Mral. London: Bloomsbury, 2013.
27. PiS. Dobry Czas Dla Polski: Program Prawa i Sprawiedliwości, 2019.
28. PiS. Good Time for Poland: Law and Justice Program, 2019.
29. PiS. Zdrowie, Praca, Rodzina: Program Prawa i Sprawiedliwości, 2014.
30. PiS. Health, Work, Family: Law and Justice Program, 2014.
31. Sadurski, Wojciech. “How Democracy Dies (in Poland): A Case Study of Anti-Constitutional Populist Backsliding”. Sydney: Legal Studies Research Paper 18, no. 1 (2018): 1-72.
32. Sikk, Allan. “Newness as a Winning Formula for New Political Parties”. Party Politics 18, no. 4 (2011): 465-486. DOI: 10.1177/1354068810389631
33. Stanley, Ben. “The Thin Ideology of Populism”. Journal of Political Ideologies 13, no. 1 (2008): 95-110. DOI: 10.1080/13569310701822289
34. Stanley, Ben. “The Post-Populist Non-Crisis in Poland”. In European Populism in the Shadow of the Great Recession, edited by Hanspeter Kriesi, and Takis S. Pappas, 245-263. Colchester: ECPR Press, 2014.
35. Stanley, Ben. “Populism in Central and Eastern Europe”. In The Oxford Handbook of Populism, edited by Cristobal R. Kaltwasser, Paul Taggart, Paulina Ochoa-Espejo, and Pierre Ostiguy. Oxford, 140-158. Oxford University Press, 2017.
36. Stanley, Ben. “A New Populist Divide? Correspondences of Supply and Demand in the 2015 Polish Parliamentary Elections”. East European Politics & Societies 33, no. 1 (2018): 17-43. DOI: 10.1177/0888325418783056
37. Stanley, Ben, and Mikolaj Czeenik. “Populism in Poland”. In Populism Around the World. A Comparative Perspective, edited by Daniel Stockemer. Cham: Springer, 67-87. 2019. DOI: 10.1007/978-3-319-96758-5_5
38. Stavrakakis, Yannis, Katsambekis, Giorgos, Nikisianis, Nikos, Kioupkiolis, Alexandros, and Thomas Siomos. “Extreme Right-Wing Populism in Europe: Revisiting a Reifi ed Association”. Critical Discourse Studies 14, no. 3 (2017): 420-439. DOI: 10.1080/17405904.2017.1309325
39. Stavrakakis, Yannis, Katsambekis, Giorgos, Nikisianis, Nikos, Kioupkiolis, Alexandros, and Thomas Siomos. “Populism, Anti-Populism and Crisis”. Contemporary Political Theory 17, no. 1 (2018): 4-27. EDN: TRFNYL
40. Szczerbiak, Aleks. “‘Social Poland’ Defeats ‘Liberal Poland? The September-October 2005 Polish Parliamentary and Presidential Elections”. Journal of Communist Studies and Transition Politics 23, no. 2 (2007): 203-232. DOI: 10.1080/13523270701317463
41. Szczerbiak, Aleks. An Anti-Establishment Backlash that Shook up the Party System? The October 2015 Polish Parliamentary Election.“ European Politics and Society 18, no. 4 (2017): 404-427. DOI: 10.1080/23745118.2016.1256027
42. Turska-Kawa, Agnieszka. “Fenomen Przywodztwa Jaroslawa Kaczynskiego w Kontekoecie Specyfi ki Elektoratu Prawa i Sprawiedliwooeci”. In Demokracja w Polsce po 2007 Roku, edited by Danuta Plecka. Katowice: Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, 2012: 157-176.
Turska-Kawa, Agnieszka. “The Phenomenon of Jaroslaw Kaczynski’s Leadership in the Context of the Spicifi city of the Law and Justice Electorate”. In Demokracja w Polsce po 2007 Roku, edited by Danuta Plecka, 157-176. Katowice: Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, 2012.
43. Tworzecki, Hubert. “Poland: A Case of Top-Down Polarization”. The Annals of the American Academy of Political and Social Science 681, no. 1 (2019): 97-119. DOI: 10.1177/0002716218809322
44. Weyland, Kurt. “Populism: A Political-Strategic Approach”. In The Oxford Handbook of Populism, edited by Cristobal R. Kaltwasser, Paul Taggart, Paulina Ochoa-Espejo, and Pierre Ostiguy, 48-72. Oxford: Oxford University Press, 2017.
45. Weyland, Kurt. “Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics”. Comparative Politics 34, no. 1 (2001): 1-22. DOI: 10.2307/422412 EDN: GTFCMZ
Выпуск
Другие статьи выпуска
За последние полвека усиление роли негосударственных акторов в мировой политической системе привело к изменениям не только в сфере международных отношений, но и в других областях политической жизни, среди которых и языковая политика. Перестав быть прерогативой государства и его институтов, она преобразовалась в область политических отношений по вопросам языка между государством и разными негосударственными акторами в рамках так называемой политики языка. Несмотря на то что эта область подразумевает процессы внутри национальных границ, ее участники могут быть как внутренними, так и ассоциированными с внешними акторами, особенно в случае, когда население страны или его часть связаны с kin-states. Наглядным примером такой ситуации является постсоветская Республика Молдова, политический спектр которой разделен между пророссийскими молдовенистскими акторами и сторонниками румынизма. Первые выступают за существование самостоятельной молдавской нации и использование глоттонима «молдавский» для государственного языка, а также придерживаются интернациональной советской традиции управления многообразием, в основе которой лежит русский как язык межнационального общения. Прорумынские силы продвигают румынскую идентичность языка для всего населения республики. Цель статьи - определить актуальный состав акторов политики языка в Молдове на современном этапе. Результаты исследования показывают, что за годы независимости политика языка в республике эволюционировала от противостояния между государством и интеллектуальной элитой до самостоятельной области отношений между разного рода акторами, причем прорумынская группа представляется более влиятельной. При этом наблюдается серьезное ослабление роли государства в политике языка, чьи институты превратились в инструмент борьбы между негосударственными акторами и не способны поддерживать стабильность конституционных основ молдавского государства.
Черкесское этнонациональное движение - одно из самых заметных в России. Дополнительный «вес» адыгский активизм получил благодаря наличию крупных диаспор в Турции, Сирии, Иордании, а также диаспор в Израиле, странах Западной Европы и США. В 1990-е гг. черкесские националисты заявляли о планах по созданию единой Черкесии - либо в составе России, либо в качестве самостоятельной политии. Такие радикальные сценарии не были приняты большинством умеренных адыгов. При этом черкесские активисты нуждались в проекте, который мог бы объединять адыгов в России и мире и поддерживать черкесское движение на ходу. Таким проектом стало содействие переселению черкесов диаспоры на Кавказ. Возвращение адыгов из-за рубежа исторически было важным пунктом программы черкесского движения, но после краха планов по созданию единой Черкесии и начала всестороннего кризиса в Сирии, заставившего тамошних адыгов искать убежища, эта идея вышла на первый план. Цель исследования - показать, как черкесские организации в России и в диаспорах используют проект возвращения для решения собственных задач. Продемонстрировано, что адыгское движение меняется: среди российских адыгов снижается радикализм, растет запрос на конструктивный диалог с государством в обмен на содействие с управляемым переселением. Турецкие организации не особо поддерживают идею о возвращении на Кавказ, поскольку она может ослабить черкесское движение в Турции.
В представленной статье автор анализирует особенности и направления развития коллективной исторической памяти в Косово как регионе со спорным международным политическим статусом. Целью исследования является анализ политики памяти, проводимой региональными политическими элитами Косово, которая содействует консолидации политической идентичности региона. Автор анализирует роль и место истории и представлений о прошлом в дискурсе, формируемом элитами современной Приштины. Методологически статья актуализирует достижения междисциплинарной историографии, представленной мемориальным поворотом, и исследований, сфокусированных на анализе национализма как фактора развития и трансформации мемориальных культур. Новизна исследования состоит в изучении актуального этапа в развитии исторической политики в Косово как регионе со спорным политическим статусом, стремящимся к институционализации и признанию как нации-государства. В статье показано, что: 1) политические элиты современного Косово активно используют реальный и символический потенциалы коллективных представлений о прошлом, 2) историческая политика в Косово и формируемая ее участниками мемориальная культура отличаются высокой степенью идеологизации, 3) национализм является важнейшим фактором, определяющим основные векторы и траектории развития исторической политики и мемориальной культуры. Предполагается, что политика памяти, приводимая элитами, в целом отличается тенденцией к сочетанию этнического и гражданского албанского национализма, высоким уровнем политизации и идеологизации истории, ее активным использованием и инструментализацией в публичных и общественных пространствах, что превращает коллективные представления о прошлом в фактор мемориальной конфронтации и войн памяти.
Статья посвящена исследованию племенных структур ОАЭ как негосударственных акторов. Автор уделяет особое внимание определению понятия «племени» в Арабском мире и его интерпретации применительно к странам Персидского залива и, в частности, ОАЭ как одной из наиболее сложных племенных систем региона. Исследуется вопрос племенной идентичности и ее проявления на современном этапе, а также влияния на позиции племен как политических акторов. Опираясь на классификацию негосударственных акторов В. В. Наумкина и В. А. Кузнецова, автор исследует племя как локального и ориентированного на государство актора. Выделяются три ситуации, в которых племя как актор может проявляться наиболее отчетливо. Автор приходит к выводу, что племена нельзя считать полноценным негосударственным актором, однако они сохраняют значительный потенциал для мобилизации политических действий в случае кризисных ситуаций.
В работе исследуется проблематика «Нового космоса» и все большего вовлечения частных космических компаний в военную деятельность государств мира на примере США. Рассматриваются конкретные направления работы частных космических компаний, анализируются интересы государственных ведомств в части подключения негосударственных акторов к реализации задач обороны. Оцениваются возможные последствия таких тенденций для международной безопасности.
Данная статья посвящена анализу глубинных изменений системы международных отношений, происходящих в условиях усиления роли цифровых акторов и платформ в формировании глобальной повестки. Появление Интернета стало поворотным моментом в процессе развития всей системы международной коммуникации: процессы и способы распространения информации, механизмы формирования общественного мнения видоизменились, а цифровые платформы стали новым фактором ускорения глобализации. Вместе с тем, как показывают авторы, первоначальная природа Интернета, которая рассматривалась США и странами Запада как составная часть и технология на службе либерального порядка, со временем стала отражением усиливающейся конфронтации между государствами, а также пространством распространения политических конфликтов, стереотипов и информационных войн. Кроме этого, новые цифровые олигополии стали формировать цифровое пространство исходя из своих корпоративных интересов, ставя на первое место усиление своего влияния на рынке, а не качество онлайн-дискуссий и укрепление гражданской демократической культуры. Военизация и секьюритизация Интернета является логичным продолжением кризиса мирового либерального порядка. На место комплексной взаимозависимости, в укреплении которой цифровые акторы и платформы сыграли важнейшую роль, все чаще приходит идея цифрового суверенитета, то есть отгораживания от единого коммуникационного пространства, равно как создание норм, защищающих государства и граждан от чрезмерного влияния корпораций. Авторы приходят к выводу, что мы переживаем закат эпохи информационной открытости. Деполитизация Интернета невозможна без снижения градуса международной напряженности и возвращения духа рационализма в мировую политику.
Феномен асимметричного конфликта отражает несколько важных закономерностей вооруженных конфликтов послевоенного периода: преобладание внутренних конфликтов над межгосударственными конфликтами; их интернационализация за счет участия в них других стран, международных организаций или негосударственных акторов; прямое или опосредованное участие великих держав в таких конфликтах; наибольшее число вооруженных конфликтов происходит в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Вооруженные конфликты послевоенного периода нередко называют «прокси-войнами», так как прямым участникам конфликта оказывают поддержку внешние акторы - государства или негосударственные акторы. Предметы конфликтов между государствами и негосударственными акторами часто имеют политическую природу. Произошло преодоление принципиального различия между внутренней и внешней политикой. Послевоенный период показывает постепенное изменение отношения к участию негосударственных акторов в вооруженных конфликтах, что отражается в признании легитимности их как участников конфликта, переговоров и заключения соглашений о прекращении военных действий. Происходит легитимация самих негосударственных акторов вооруженных конфликтов как представителей интересов определенных групп населения. Миротворческая деятельность ООН после окончания холодной войны подтверждает эти изменения. Исследование участия негосударственных акторов в вооруженных конфликтах показывает расширение повестки и методологии изучения вооруженных конфликтов послевоенного времени, что отражает существенные изменения практики международных отношений. Эти изменения касаются того, кто признается легитимным участником международных отношений, какую роль играют негосударственные акторы в вооруженных конфликтах и какое отношение к негосударственным акторам существует у других участников международных отношений - государств, международных правительственных и неправительственных организаций.
Интервью с Мариной Михайловной Лебедевой, заведующей Кафедрой мировых политических процессов МГИМО МИД России.
«Одним из важнейших проявлений и неотъемлемым атрибутом современного развития становится взаимодействие и соперничество негосударственных акторов и государственных участников мировой политики. Государствам приходится считаться с ними, учитывать их в своей внутренней и внешней политике и даже соперничать друг с другом за привлечение их на свою сторону»1.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- МГИМО
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 119454, Москва, проспект Вернадского, 76.
- Юр. адрес
- 119454, Москва, проспект Вернадского, 76.
- ФИО
- Торкунов Анатолий Васильевич (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- portal@inno.mgimo.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 2294049
- Сайт
- https://mgimo.ru/