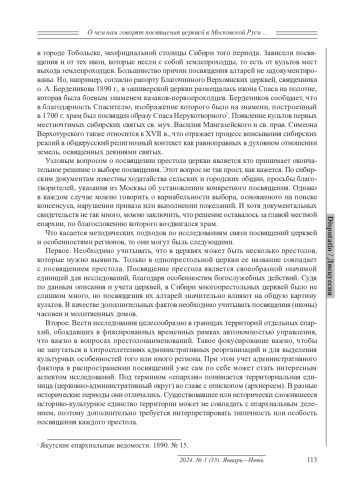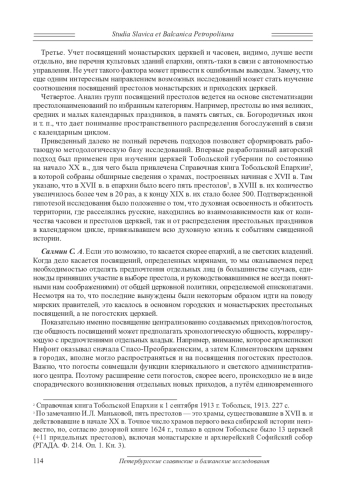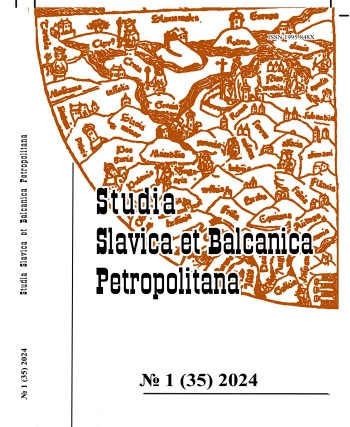Как складывалось сакральное пространство православных епархий в XV–XVII веках? Можно ли определить закономерности в посвящении православных церквей определенным святым? Участники дискуссии анализируют эти вопросы, опираясь на опыт собственных исследований на разных территориях Московской Руси — европейской части и Сибири. Исследования показывают, что строительство храмов и посвящение их православным святым, православным праздникам — это своеобразный индикатор духовного освоения территории, ее обживания. Динамика посвящений престолов городских и монастырских соборов, городских и сельских приходских церквей отражает особенности формирования приходской структуры, показывает взаимосвязь общегосударственных и локальных процессов. Изучение церквей Московской Руси становится репрезентативным после появления детальных описаний сельского пространства в конце XV в. Трансформации социальной структуры государства, изменения внутренних и внешних границ приводят к динамичным изменениям в посвящениях престолов церквей и изменениям в приходской структуре.
Идентификаторы и классификаторы
Майничева А. Ю. Ответить на поставленный вопрос попробую с методологических позиций. Возведение храмов неслучайно, это своеобразный индикатор духовного освоения территории, ее обживания. Для определения связи между посвящениями и особенностями регионов нужно определиться, о каких особенностях идет речь. Исторических? Этнических? Культурных? Социальных? Экономических? Их комбинаций? О преобладании тех или иных посвящений? От ответа будет зависеть и возможность установления связей.
Список литературы
1. Андерсон, Бенедикт. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Г. Николаева. Москва: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. (Малая серия “CONDITIO HUMANA” в серии “Публикации Центра фундаментальной социологии”). 288 с.
2. Демчук, Галина Владимировна; Уткин, Николай Николаевич. Посвящения храмов в Нижнем Подвинье в XVI - начале XVII в. // Массовые источники истории и культуры России ХVI-ХХ вв.: Материалы XII Всероссийской конференции “Писцовые книги и другие массовые источники истории и культуры России ХVI-ХХ вв.: Проблемы изучения и издания”, посвященной памяти Василия Васильевича Крестинина (1729-1795). Архангельск, 19-23 июня 2001. Архангельск, 2002. С. 105-115.
3. Демчук, Галина Владимировна; Уткин, Николай Николаевич. Посвящения церквей в Каргопольском уезде по сотным выписям XVI в. // Христианство и Север: По материалам VI Каргопольской научной конференции. Москва, 2002. С. 37-45.
4. Земскова, Вера Ивановна. Борисоглебские церкви в политической истории России XII-XVII веков. Москва: Индрик, 2022. 456 с.
5. Кустова, Елена Витальевна. История Вятского Успенского Трифонова монастыря: В 2 т. Т. 1. История монастыря от основания до наших дней. Киров: Буквица, 2012. 752 с.
6. Манькова, Ирина Леонидовна. Маркеры российской государственности в православном ландшафте Урала и Сибири (конец XVI - XVII в.) // Уральский исторический вестник. 2013. № 3 (40). С. 40-46.
7. Манькова, Ирина Леонидовна. Православный ландшафт городов Западной Сибири в XVII веке. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2020. 394 с.
8. Марченко, Никита Алексеевич. Литургические особенности закладки и освящения храма в Русской Церкви XVI-XVII вв. по данным архиерейских храмозданных грамот из архива Соловецкого монастыря // Христианское чтение. 2022. № 4. С. 180-189. EDN: JDCFZB
9. Мельник, Александр Гаврилович. Ростовский митрополит Иона (1652-1690) как творец сакральных пространств // Иеротопия: Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. Москва: Индрик, 2006. С. 740-753.
10. Полознев, Дмитрий Федорович. Патриарх Никон шатровых храмов не запрещал, или еще раз о пользе обращения к источникам // История и культура Ростовской земли. 2007. Ростов, 2008. С. 6-26.
11. Рыбаков, Борис Александрович. Русское прикладное искусство X-XIII вв. Ленинград: Аврора, 1971. 128 с.
12. Салмин, Сергей Анатольевич. Престольные посвящения погостских церквей и динамика распространения клерикально-административной системы в Псковской земле в конце X-XV в. // Вестник университета Дмитрия Пожарского. Псков и Псковская земля в истории Руси и России (Х-XVII вв.). 2019. № 2 (14). С. 10-35.
13. Сукина, Людмила Борисовна. Человек верующий в русской культуре XVI-XVII вв. Москва: РГГУ, 2011. 424 с.
14. Тарановская, Наталия Васильевна; Мальцев, Никандр Викторович. Русские прялки. Ленинград: Аврора, 1970. 120 с.
15. Топычканов, Андрей Владимирович. Политическое пространство царских загородных резиденций второй половины XVII в. Москва: Индрик, 2019. 328 с.
16. Устинова, И. А. Делопроизводственные документы патриарших приказов 1-й половины XVII в.: Приходная книга Патриаршего Казенного приказа 1640/41 гг. // Вестник церковной истории. Ч. 1-7. 2014-2017. № 35-46.
17. Устинова, И. А. Посвящение храмов в Европейской части России в середине XVII в. (по материалам делопроизводства Патриаршего Казенного приказа) // “Чтобы не перестала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла…”: К 70-летию Николая Михайловича Рогожина / Отв. ред. Ю. А. Петров. М., 2019. С. 230-237.
18. Фёдорова, Ольга Алексеевна. Храмозданные грамоты и проблема истории шатровых храмов в XVII веке // Искусство христианского мира: Сборник статей. Москва: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2005. Вып. 9. С. 225-235.
19. Хорошев, Александр Степанович. Политическая история русской канонизации (XI-XVI вв.). Москва: Изд-во МГУ, 1988. 206 с.
20. Чагин, Георгий Николаевич. Русь Московская, Пермь Великая и Стефан Пермский // Христианское миссионерство как феномен истории и культуры: Материалы международной научно-практической конференции - 1996 г. Т. I. Пермь 1997. С. 39-53.
21. Черкасова, Марина Сергеевна. К изучению церковного строительства в Ростовской митрополии в XVI-XVII вв. // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2005. Вып. 15. С. 132-146. EDN: ZCWQIB
22. Швейковская, Елена Николаевна. Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца XVI - XVIII века. Москва: Индрик, 2012. 368 с.
23. Яворницкий, Дмитрий Иванович. История города Екатеринослава. Днепропетровск: Проминь, 1989. 197 с.
24. Mainicheva, Anna Yurievna. “As the measure and beauty suggest”: traditional principles of geometry in Russian Orthodox churches // Anthropology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. 2015. Vol. 43. Issue 1. P. 135-143.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В культуре древнерусских земель, как и всего православного мира, почитание Богоматери приобрело поистине широчайшие масштабы. В этой связи особого внимания заслуживают образы святых жен, которые довольно часто встречаются в контексте изображения Богоматери – либо как дополнительные фигуры, либо на обороте двусторонних икон. Однако тема почитания образа Богоматери и образов святых жен недостаточно исследована. Данная статья посвящена интерпретации образов святых жен в составе композиции избранных святых на полях икон, где в среднике представленобраз Богоматери. В иконографии этого типа икон интересующие нас образы являются ключевыми фигурами в общем иконографическом замысле произведений, связаны с почитанием Богоматери, призваны акцентировать некоторые грани богородичного культа. Речь идет о свойственных образам святых жен функциях заступничества, покровительства, учительства, которые сближают их с изображением в среднике. На примере памятников различных древнерусских центров предлагается новая трактовка функций их образов, которая, однако, не противоречит ранее устоявшимся в науке представлениям о либо сугубо утилитарных аспектах почитания, связанных с покровительством определенным граням повседневности, либо с патрональными функциям. Однако данные представления не могут объяснить всех особенностей культа святых жен. Эти особенности нашли отражение в иконографии конкретных произведений. Таким образом, предлагаемая в данной статье трактовка призвана дополнить наши представления о той роли, которую образы святых жен играют в культуре Древней Руси и, в частности, в композициях интересующего нас типа.
Почитание свв. Георгия и Димитрия было широко распространено как в Византии, так и среди южных славян. Как правило, в научных исследованиях основное внимание уделяется иконографическим и стилистическим особенностям этих святых воинов. В данной статье на примере памятников сербского средневекового искусства, расположенных на территории Македонии, исследуется вопрос влияния на распространение их культа прежде всего ключевых аспектов идеологии сербских правителей Неманичей. Более пристальное внимание к отдельным иконографическим сюжетам проливает свет на сложную и весьма разнообразную картину развития сербской живописи в XIV в. и выявляет как ее специфику, так и общие точки соприкосновения с византийским искусством. Обращение к образам свв. Георгия и Димитрия служит одним из примеров взаимодействия византийской тематики и местной специфики, обусловленной общей идеей сохранения национального самосознания в рамках всеобщей «византизации». Не менее интересно проследить и выявить причины акцентирования национальных идей и индивидуальных локальных особенностей в эпоху правления короля Милутина, когда государственная идеология постепенно приобретает имперские черты, и происходит их постепенное сглаживание, примерно с 1340-х гг. обусловленное спецификой политических амбиций царя Стефана Душана, стремившегося не столько к встраиванию в византийскую парадигму, сколько к ее присвоению. В этом историко-политическом контексте рассмотрено, как эти события отражаются на распространении культов свв. Георгия и Димитрия, поскольку, с одной стороны, святой Георгий является одним из наиболее почитаемых византийских святых, с другой — его почитание тесно связано со Стефаном Неманей (основателем династии Неманичей и одним из главных национальных сербских святых). Иконография св. Димитрия Солунского имела тесную связь с главным центром почитания этого святого — Фессалоникой, где возникло множество иконографических вариантов, а также с окружающими греческими и славянскими землями. Кроме того, этот святой был тесно связан с династией Палеологов, а город, патроном которого он являлся, в период правления короля Милутина приобрел важное значение в том числе для сербских правителей.
Зооморфная иконография св. Христофора сегодня все чаще привлекает внимание многих исследователей. Несмотря на широкий корпус искусствоведческой литературы, проблема бытования культа и реликвий св. Христофора на Руси практически не рассмотрена. Анализ письменных источников позволяет говорить о широком распространении реликвий св. Христофора на Руси начиная с XVII века. Частицы его мощей, заключенные в драгоценные раки и реликварии, со временем разошлись по всей стране. Одна из крупных святынь — честная глава св. Христофора, по форме напоминающая голову собаки, хранилась в Успенском соборе Московского Кремля и, как сообщают источники, была задействована в торжественном Чине омовения святых мощей. Зооморфная иконография мученика могла сложиться не только на основании житийных повествований св. Христофора, описывающих его с головой «аки песья», но и в связи с пребыванием в сердце Москвы — Московском Кремле — его значимой реликвии. Вместе с тем, на Руси специфический образ св. Христофора в качестве врачевателя особенно остро воспринимался в «контексте» народной культуры. Почитание мученика актуализировалось на фоне трагических событий в истории Руси, связанных с моровыми поветриями, вызывающими большую смертность не только среди людей, но и животных.
В «Житии святой Елены, королевы Сербии» (?–1314) архиепископ Данило II, её современник, рассказывает о трёх заседаниях Сабора (собрания), состоявшихся после её смерти. Первое было созвано самой Еленой, когда она почувствовала приближение смерти: Данило описывает, как он и другие созванные им люди бросились к ней, подобно апостолам во время Успения Богородицы. Современные учёные считают, что это было местное собрание, в котором участвовали только представители знати и церковные сановники из тех земель, которыми Елена владела как вдовствующая королева. Второе собрание, в котором, вероятно, участвовал весь сербский Сабор, было созвано после её смерти для организации похорон во главе с её сыном, королём Стефаном Урошем Милутином. Третье собрание, вероятно, снова местное, состоялось три года спустя для переноса её мощей, что, вероятно, положило начало (но ещё не завершило) её канонизации. Цель этой статьи — проанализировать то, как Данило описывает эти собрания, и их значение как для зарождающегося культа святой Елены, так и для средневекового сербского государства.
В статье исследуется литературная традиция, передающая память о мучениках поздней античности из Сирмия, а также методологические проблемы, с которыми сталкиваются исследователи при попытке выявить исторические связи между культами мучеников, возникшими после Великого гонения на христиан (303–310 гг.), и первыми описаниями их страданий, сохранившимися в рукописной традиции греческой и латинской агиографической литературы (с VIII века). История страданий этих мучеников вошла в культурную память благодаря почитанию их культа и нарративной традиции, тем самым повлияв на формирование христианской идентичности этого святилища, независимо от этнической принадлежности его носителей. В статье представлен обзор предыдущих исследований и гипотетических решений, которые служат методологической основой для дальнейших изысканий. Методологической основой статьи является сравнительно-критический анализ всех доступных источников, в которых упоминаются случаи мученичества, связанные с древним городом Сирмиум. Обсуждаются происхождение, подлинность и историческая ценность этих источников, а также контекст, в котором они были созданы.
Динамика посвящений сельских церквей отражает локальные особенности формирования приходской структуры, как в Западном, так и в Восточном христианском пространстве. Для Московской Руси исследование такой динамики возможно прежде всего со времени появления правильного описания сельского пространства в конце XV в. Трансформации социальной структуры средневековой Новгородской земли после включения ее в состав Московской державы повлекли за собой динамические изменения посвящений церквей и изменение приходской структуры.
Предметом исследования в данной статье является средненижненемецкое выражение in doder Narwe. Автор переводит его как «немецкая (тевтонская) Нарва», отвергая перевод «мертвая Нарва/Нарова», предложенный в 1936 году А. Сювалепом и поддерживаемый в настоящее время П. В. Лукиным. В качестве аргументов приводится, во-первых, ссылка на ряд лексических особенностей средненижненемецкого диалекта, сформировавшегося в условиях взаимодействия разных наречий, с характерной для него многовариантностью написания слов. Во-вторых, автор предлагает установить смысл спорного выражения, исходя из событийного контекста, который может быть восстановлен с помощью ганзейской переписки. Выражение in doder Narwe использовано в документах по делу об ограблении новгородских и ревельских купцов, совершенного на реке Нарва/Нарова в 1407 году шведскими торговыми агентами фогта Выборга Торна Бунде по инициативе Берндта фон Вреде, чьи товары были арестованы на ганзейском подворье в Новгороде. В связи с этим возникла необходимость определить границы юрисдикций немецкой или русской сторон, что было трудно сделать ввиду неразграниченности на тот момент русла реки. Перевод «мертвая Нарва/Нарова» и идентификация ее с притоком Луги Куллакюлы (Мертвицей) в данную ситуацию никак не вписываются, тогда как выражение «в немецкой (тевтонской или орденской) Нарове» представляется вполне уместным, поскольку оно употреблено в связи с юрисдикцией Немецкого (Тевтонского) ордена в Ливонии.
Статья посвящена чуду низвержения идолов в 79 главе Хроники Иоанна Никиусского, связанного с падением статуй Артемиды и Аполлона при входе малолетнего Феофила, будущего патриарха Александрийского (+412), в языческий храм в Мемфисе. Отроку Феофилу придаются черты Моисея и Христа одновременно, поскольку с одной стороны, как при приходе Христа в Египет, так и при его посещении храма, кумиры падают и разбиваются, а с другой стороны, Феофил, как Моисей, должен бежать от египтян-язычников. Рассказ о «самосокрушении» идолов имеет целый ряд параллелей в мученических житиях — Корнилия Сотника, Георгия Победоносца, Никиты Готского и других. Схема падения идолов однотипна: мученик делает вид, что готов принести жертву кумирам, вводится в храм, молится, после чего они падают. Эти рассказы могут базироваться на реальных случаях падения статуй во время землетрясений. Однако, в житиях отсутствует ряд деталей, важных, для повествования «Хроники Иоанна Никиусского». Непосредственную связь с 79 главой Иоанна Никиусского имеет Евангелие детства Христа — рассказ о том, что при приходе Святого Семейства в Египет рухнул идол, а также в так называемом Сказании Афродисиана. В Сказании повествуется о том, как в персидском царстве во время рождения Христа голоса из кумиров говорили о рождестве от Марии, а после явления звезды все кумиры падают, кроме статуи «Источника», становящейся прообразом Девы Марии. Это предание отразилось в кондаке Романа Сладкопевца «На избиение Вифлеемских младенцев», а также в Акафисте. В контексте Хроники Иоанна Никиусского и событий 391 г. — разгрома Серапеума, о котором также сообщает Хроника, и избиения христиан язычниками — выстраивается следующая символическая конструкция: приход Феофила во храм и падение кумиров, затем бегство в Никиу и в Александрию, резня в Серапеуме в 391 г. — уподобляются бегству Христа в Египет, сокрушению идолов, и избиению младенцев. Реальной основой для рассказа явилось так называемое чудо св. Спиридона Тримифунтского — падение идолов, произошедшее в 320 г., в год антиарианского собора, на котором мог присутствовать прославленный кипрский епископ. Позднейшая традиция соединила это событие с разрушением Серапеума. Это чудо могло быть перенесено на малолетнего Феофила, возможно, в связи с тем, что 320 г. мог быть годом его рождения. Здесь публикуется перевод 79 главы Хроники Иоанна Никиусского.
В статье рассматривается вопрос об обозначении представителей монгольской элиты в русских источниках в первые десятилетия после нашествия Батыя. В рассказе Ипатьевской летописи о взятии Киева в 1240 г. «воеводами» именуются и члены ханского рода, родственники Батыя, и военачальники, не принадлежавшие к династии Чингисидов. При этом «братья» Батыя определяются как «сильные воеводы», лучший монгольский полководец Субэдэй — как «первый воевода» Батыя, остальные военачальники — как «иные воеводы». Сопоставление терминологии, применявшейся по отношению к монгольской и затем ордынской знати в источниках XIII века, с одной стороны, и более позднего времени — с другой, позволило установить, что известная из источников XIV–XV столетий иерархия русских терминов: хан, верховный правитель — цесарь/царь, члены ханского рода (Чингисиды, Джучиды) — царевичи, эмиры (беки) — князья, в XIII столетии еще не сложилась. Чингисиды, как правило, упоминались без титула. Для лиц ханского окружения в этот период мог применяться термин рядца. Представители ханской администрации могли определяться по должности (баскаки). Когда же контекст сообщения источника имел отношение к военным действиям, предпочитался термин «воевода». Причем воеводами могли называться как члены ханского рода, так и полководцы, не принадлежащим к правящей династии. Таким образом, при отсутствии в первые десятилетия после подчинения Руси власти монгольских ханов разработанной русской терминологии для обозначения знати завоевателей, термин «воевода» использовался как универсальное определение.
Середина XIII века стала поворотным моментом в историографии Монгольской империи. Захватив трон в 1251 году, Мункэ-хан взял под контроль и её прошлое, заказав ряд новых придворных хроник. В настоящее время широко распространено мнение, что Мёнке был инициатором составления истории Чингисхана (годы правления 1206–1227) и его преемника Угэдэя (годы правления 1229–1241), известной как «Сокровенное сказание монголов» На основе более ранних генеалогий, прокламаций и переписки «Сокровенное сказание» считается первым достоверным источником о создании Монгольского государства. Однако эта точка зрения может быть ошибочной, поскольку существуют убедительные доказательства того, что первые персидские хроники о Монгольской империи были основаны на ещё более ранних повествовательных источниках монгольского двора. Содержание этих источников позволяет предположить, что они в значительной степени опирались на информацию чиновников Кара-Китая, которые либо бежали, либо были назначены на должности в ранней монгольской администрации Ирана. Эти персидские авторы приводят отрывочные свидетельства о том, как монголы помнили своё прошлое до того, как распространилась новая версия, продвигаемая Мункэ. В рамках настоящего исследования будет проанализирована одна из самых ранних персидских исторических хроник — «Рассказ о проклятых татарах и начале их правления» Шихаб ад-Дина Насави (ум. в 1250 г.), чтобы определить возможное происхождение этих монгольских исторических хроник и их вклад в историографию империи.
В современных научных работах, посвящённых эпохе монгольских походов, в частности Великому западному походу (1236–1242), мы видим противоречивую картину, состоящую из различных, а иногда и взаимоисключающих взглядов на ключевой вопрос о целях завоевателей и о том, насколько завоевания на Западе соотносились с более масштабными стратегическими целями Монгольской империи.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- СПБГУ
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9
- Юр. адрес
- 199034, г Санкт-Петербург, Василеостровский р-н, Университетская наб, д 7/9
- ФИО
- Кропачев Николай Михайлович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- spbu@spbu.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 3282000
- Сайт
- https://spbu.ru/