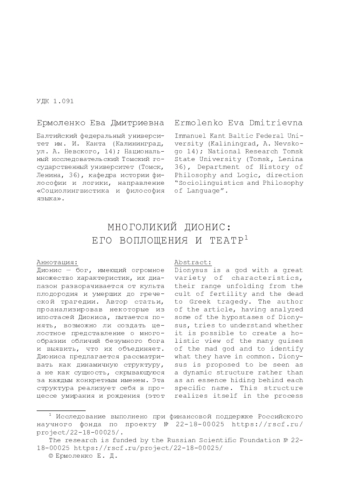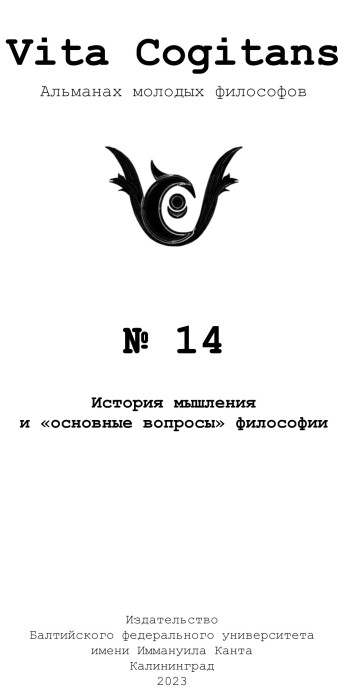Дионис - бог, имеющий огромное множество характеристик, их диапазон разворачивается от культа плодородия и умерших до греческой трагедии. Автор статьи, проанализировав некоторые из ипостасей Диониса, пытается понять, возможно ли создать целостное представление о многообразии обличий безумного бога и выявить, что их объединяет. Диониса предлагается рассматривать как динамичную структуру, а не как сущность, скрывающуюся за каждым конкретным именем. Эта структура реализует себя в процессе умирания и рождения (этот процесс творится бесконечно и реконструируется мистериями), поэтому в каждом Дионисе (как отдельной зафиксированной функции) проявляется витальное и хтоническое. Действительно, Дионис - не только бог жизни, неистового веселья и плодородия, но и смерти. Несмотря на то, что, как божество, отождествляемое с Аидом, он зовётся именем Загрей, его хтоническая природа пробуждается и в других его проявлениях. Автор предполагает, что пространством свободы выражения Диониса (в форме музыки, хора или же героя) без закостенелости в наименовании является театр. В связи с этим возникает вопрос: как в театре проявляется хтоническое? Предлагаемая работа - попытка на него ответить.
Dionysus is a god with a great variety of characteristics, their range unfolding from the cult of fertility and the dead to Greek tragedy. The author of the article, having analyzed some of the hypostases of Dionysus, tries to understand whether it is possible to create a holistic view of the many guises of the mad god and to identify what they have in common. Dionysus is proposed to be seen as a dynamic structure rather than as an essence hiding behind each specifi name. This structure realizes itself in the process of dying and rebirth (this process is created endlessly and reconstructed by the mysteries), so in each Dionysus (as a separate fi function) the vital and chthonic are manifested. Indeed, Dionysus is not only the god of life, frenetic merriment and fertility, but also of death. Although, as a deity identifi with Hades, he is called by the name Zagreus, his chthonic nature is evoked in his other manifestations. The author suggests that the space of Dionysus’ freedom of expression (in the form of music, chorus, or hero) without the rigidity of the name is the theater. This raises the question: how does the chthonic manifest itself in the theater? The proposed work is an attempt to answer it.
Идентификаторы и классификаторы
Статичность, торможение в одном воплощении и состоянии — то, что чуждо вечно меняющемуся и безгранично множественному Дионису. Эта особенность порождает сложность в изучении столь неуловимого бога и неопределённость касательно связей между различными аспектами его культа. В ситуации текучести, динамичности проявлений Диониса возникает вопрос, возможно ли создать его цельный образ или же размышления об этом боге не предполагают какую-либо точность? Исследования иконографии Диониса, письменных источников дают нам информацию о множестве ипостасей, в которые соединяются отдельные качества бога. Каждое из этих качеств реализуется в своём виде божественной деятельности, атрибутике и вербализуется в особенное имя. Плодородие, вино, насилие, безумие, жертвоприношение, культ погребения — те детали мифа, с которыми связывается Дионис, но, перечисляя,
Список литературы
1. Афонасина, Анна (2022). “Как Дионис попал в диалоги Платона и занял там важное место?” Интеллектуальные традиции в настоящем и прошлом № 6: 233-253.
2. Иванов, Вячеслав (1993). Дионис и прадионисийство. СПб.: Алетея.
3. Кереньи, Карл (2007). Дионис: прообраз неиссякаемой жизни. М.: Ладомир.
4. Жирар, Рене (2010). Насилие и священное. М.: Новое литературное обозрение.
5. Ницше, Фридрих (2001). Рождение трагедии. М.: Ad Marginem.
6. Торчинов, Евгений (2022). Опыт запредельного: религии мира. СПб.: Азбука-классика.
7. Bierl, Anton (2012). “Dionysos’ Epiphany in Performance. The God of Ecstatic Cry, Noise, Song, Music, and Choral Dance”. Basel, Electra 2: Dionysus: Myth, Cult, Ritual № 6: 1-12.
8. Friesen, Courtney J (2015). P. Reading Dionysus. Euripides’ Bacchae and the Cultural Contestations of Greeks, Jews, Romans, and Christians. Tübingen: Mohr Siebeck.
9. Mendelsohn, Daniel (2016). How Greek Drama Saved the City. The New York Review.
10. Scarpi, Paolo (2002). Le religioni dei misteri. Volume I: eleusi, dionisismo, orfismo. Monaco: Generali.
11. Tarantino, Giovanni, Wyss-Giacosa, Paola (2021). Through Your Eyes Religious. Alterity and the Early Modern Western Imagination. Leiden, Boston: Brill.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Настоящее исследование представляет собой разбор основных онтологических проблем, поднятых ранее в предшествовавшей публикации. Обсуждение ведется в виде диалога между преподавателем и студентами на занятии по Основам философии. Основная тема данного исследования - понятие бытия, его объем и концептуальное содержание. По ходу изложения раскрывается та роль в соотношении между понятием и обозначаемым им объектом, какую играет смысл слова «бытие». Последнее понимается как «то, что существует», т. е. сущее в целом. Отличительной особенностью понятия сущего оказывается то условие его осмысленности, при котором референт данного понятия не может мыслиться в качестве отсутствующего или несуществующего. Тем самым находится понятие такого объекта, существование которого с логической необходимостью предполагается вместе с ним. Исследование показывает, что такого рода представление о связи сущности и существования возникает в силу смешения понятия и мыслимого в нем объекта. Этим нарушается единство семантического треугольника Фреге, описывающего собой соотношение между всеми тремя компонентами понятия. Приводятся примеры подобных же понятий из истории философии. Отдельно рассматриваются логические характеристики понятия сущего. Проводится различие между понятиями бытия и сущего, единого и целого. Ставится и решается вопрос о специфике феномена реальности, а также тождества бытия и мышления. В серии примеров раскрывается природа существования. Оно понимается как ценность. Поднимается вопрос об истине как критерии существования.
В данной работе предпринята попытка раскрытия и решения некоторых важных онтологических проблем. Тема исследования излагается нестандартным для научной публикации способом посредством диалога между преподавателем и обучающимися на занятии по Основам философии. Освещаются различные теоретико-познавательные проблемы, связанные с образованием понятия бытия и попыткой его осмыслить. Проводится различие между понятиями бытия, мира, Вселенной и присущей им бесконечности. Прослеживается переход от разрозненных утверждений о существовании отдельных вещей к представлению о существовании бытия как такового. Объяснению подлежит то обстоятельство, что понятие бытия при его образовании подменяется понятием сущего. Эта же подмена совершается в утверждении о существовании бытия. Обсуждаются вопросы соотношения природы вещей и их существования, связи формы и материи, бытия идеальных и эмпирических предметов, частного и общего, смысла и бытия сущего. Ставится вопрос о возможности представления или формирования понятия такой вещи, существование которой невозможно отделить от ее сущности. Отдельно освещается вопрос о соотношении причины бытия вещи и ее существования. Причиной существования признается тождество вещи самой себе, ее неизменность. Исследуется связь логики и философии, в частности, соотношение законов тождества и противоречия с некоторыми аспектами в понимании сущего. Поднимаются вопросы о связи означаемого и означающего в понятии бытия. Исследуется структура семантического треугольника применительно к понятию сущего.
В статье в исторической ретроспективе рассматриваются некоторые из философских вопросов, способных претендовать на роль главенствующих в философии. Прослеживаются различные взаимосвязи между главными вопросами философии. Особо рассматриваются вопросы платоновской и аристотелевской философии. Показано актуальное значение для современной логической науки тех вопросов, какими задавался Аристотель в своей первой философии. Обсуждаются вопросы трансцендентальной философии И. Канта. Формулируются основные мировоззренческие вопросы, а также их связь с вопросами философской «науки». Сравнению подлежат вопросы экзистенциалистской философии и марксистско-ленинской философии. Отдельно выявляются проблемы, связанные с формулировкой вопроса об отношении «мышления» и «бытия», «духа» и «материи». По итогу исследования основными вопросами философии признаются: 1) вопрос о «первоначале» или сущности, «природе» вещей; 2) вопрос о существовании мира или «бытия», «сущего» в целом, 3) вопрос о познаваемости мира и всякого «сущего» в отдельности. Последние два вопроса оказываются особенно тесно связанными, предполагающими друг друга. Указаны слабые и сильные стороны каждого из ключевых вопросов философии. Выявляется текущее положение дел в отношении философского вопрошания в отечественной философской науке.
В статье представлено «промежуточное» замечание о методе политической философии Лео Штрауса и его позиции. Представлено разночтение понятий «ученый», «философ», «историк политической философии», «политический ученый», используемые Штраусом в целях описания самоидентификации. Демонстрируется исходная философская позиция Штрауса, исходящая из демонстрации философии как способа обращения к «человеческому миру», к опыту действительной жизни в противовес философии трансцендентных сущностей. Особое внимание уделяется критике историцизма. Статья преследует задачу положить начало устранению лакуны в исследованиях Штрауса в России. Эта лакуна заключается в отсутствии постановки вопроса о различии ученого или историка философии с одной стороны, и философа с другой. Разделы «Единство интенционала», «Историк и история политической философия» и «Проблема политической философии: историцизм» призваны сосредоточить прочтение наследия Штрауса по линии рефлексии на место исследователя философии в истории, отношение к историческому и политической философии в связывающих её проблемах. Аналитический характер данного исследования исключает возможность прямолинейных выводов.
Статья посвящена судьбе философии Ф. Ницше (1844-1900) в ХХ веке и ее интерпретации немецким философом М. Хайдеггером (1889-1976), оказавшим решающее влияние на судьбу мировой философии и континентальной метафизики в частности. Герменевтика ницшеанской мысли в ХХ веке есть прежде всего герменевтика катастрофических событий, с которыми столкнулась Германия: Ноябрьская революция 1918 г., кризис Веймарской республики, приход к власти NSDAP, технократия, «размывание человека» и мировые войны. В статье мысль главных представителей революционного консерватизма, среди которых: А. Молер, братья Э. и Ф. Юнгеры, К. Лёвит, А. Боймлер, Г. Фишер - позиционируется в качестве основного «экзистенциального» основания интерпретации М. Хайдеггера. Отличительными чертами хайдеггеровской методологии указываются заимствование у А. Молера понятия «принятия всерьез» и диалектика Бытия - сущего. Взгляд М. Хайдеггера на мысль «философа без гражданства» сосредотачивается вокруг трех главных фокусов: критики ценностей, Wille zu Macht и идеи «Ewige Wiederkunft». Особое внимание уделяется пониманию Хайдеггером концепции «смерти Бога», которая в его толковании не имеет ярко выраженного антихристианского характера. Невозможность окончательно преодолеть ценностную парадигму, направляемую основным инстинктом воли к власти, определяется в качестве основного изъяна философии Ф. Ницше, скрывающего Бытие и истинный характер сущего и не способного окончательно преодолеть метафизику.
В данной работе разбирается статья Г. Риккерта «О понятии философии». Автор реконструирует аксиологическую модель и анализирует как отдельные положения её устройства, так и её общее назначение - сформировать систему знания, которая даст универсальное мировоззрение. В ходе анализа становится заметно, что Риккерт некритически относился к «онтологизму» своего теоретического построения, из-за чего оно было в значительной степени переусложнено.
Статья посвящена рассмотрению взаимодействия принципиальных положений в политической философии. Автор формулирует принципы Канта и Арендт, а затем разбирает «Лекции по политической философии Канта» Ханны Арендт относительно их базовых положений. Рассматривается универсальный кантовский принцип о разделении мира «должного» и мира «фактического», в котором не существует сферы политического, и его взаимодействие с базовым положении Арендт о разрыве политической и этической сфер. В статье показывается, что это приводит к напряжению в политико-философских построениях. Автор этого добивается посредством помещения «Лекций по политической философии Канта» в пространство работ Канта и корпуса работ Арендт. Делается вывод о том, что напряжение во взаимодействии принципов актуализирует политическую конструкцию по отношению к реальности.
Зло является неизбежной частью жизни каждого человека. Проявляясь в таких разнообразных явлениях, как болезни, смерть, разрушение, пороки души и природные катастрофы, причиняющие страдания всему живому, оно требует своего осмысления, встраивания в непротиворечивую картину мира, которая позволила бы если не преодолеть его полностью, то хотя бы научиться эффективно бороться и продолжать жить с ним рядом. Эта задача не стала менее актуальной сегодня, когда зло принимает среди прочих такие формы, как международный терроризм, экологический кризис и рост душевных заболеваний, связанных с утратой смысложизненных ориентиров в высокотехнологичном обществе потребления. Представляется, что в современных философских поисках преодоления зла может быть небесполезно обратиться к истории и посмотреть, как относились к нему мыслители других эпох. В данной статье будет сделана попытка концептуализации понятия зла и рассмотрены варианты решения проблемы зла, даваемые тремя мыслителями поздней Античности: основателем неоплатонизма Плотином, спорившим с ним неоплатоником Проклом и Псевдо-Дионисием Ареопагитом, создавшим на основе учения Прокла христианский вариант теодицеи - оправдания Бога за несовершенство созданного Им мира. Будучи созданы представителями разных мировоззренческих парадигм, все эти трактовки тем не менее находятся в русле так называемой привативной теории зла. Обосновывается вывод о том, что привативная теория не потеряла своей атуальности и сегодня и может быть использована для разработки мировоззрения, отвечающего на вызовы сегодняшнего дня.
В статье предлагается интерпретация персонажей и событий второй книги «Энеиды», в которой описывается падение Трои. Нет сомнений, что Одиссей, Эней и Синон являются центральными фигурами второй книги поэмы, вокруг которых строится повествование. Главным действующим лицом автор считает Синона, поскольку он и соединяет, и разделяет две противоположности: Одиссея и Энея. С одной стороны, он выглядит жертвой Одиссея, но в то же время является ключевым исполнителем хитроумного плана разрушения Трои. Все его действия несут в себе обман, который разоблачает Эней. Поначалу кажется, что задача Энея - разоблачить обман и продемонстрировать истинное положение дел. Но Вергилий непрямым образом вплетает в текст определенную двусмысленность, касающуюся правоты троянцев и статуса Энея, как «агента правды». Все, в чем Эней обвиняет ахейцев, можно найти в действиях его и его спутников. Получается своего рода схема-симулякр: Вергилий неявно использует философскую логику отношения знака и означаемого для описания его персонажей. Если учесть, что одним из мотивов написания поэмы «Энеида» было восхваление фигуры Августа и его правления, то не является ли это демонстрацией, что новая эпоха, эпоха империи, отчаянно рядящаяся в одежды республики, только по внешнему виду является ею? Республиканского уже нет, все его признаки - это знаки и образы, не имеющие реального значения и первообразов, то есть симулякры.
Из некоторых стихов Эмпедокла, а также из ряда свидетельств мы знаем, что он мог бы подробно описать не только то, как происходит порождение живых существ (их тканей и органов) сегодня, но и то, как происходило их сотворение с самого начала. Можно предположить, что, прежде чем вдаваться в подробности такого изложения, он остановился на более общем описании процесса, который всегда приводит к образованию соединений, а именно на взаимодействии двух сил Любви и Вражды в их борьбе за доминирование на материальном субстрате четырёх первооснов. Возникает вопрос: когда в космическом цикле происходит зоогонический процесс Любви, а когда - Вражды? Действительно ли необходимо, признав существование двойной зоогонии, одновременно постулировать, что она имеет место в двух разных фазах космического цикла? Такая интерпретация предполагает реконструкцию космического цикла, состоящего из четырёх совершенно зеркальных фаз, в антиподах которых, с одной стороны, период полного господства Любви (Сфайрос), с другой - полного разделения первооснов (концентрических и однородных элементарных масс), а в промежуточных периодах - ситуация борьбы между Любовью и Враждой. В обоих промежуточных периодах есть место для формирования космоса со своей зоогонией. Нужно ли постулировать из соображений симметрии всего космического цикла существование двух космосов? Из приведённых автором соображений можно сделать вывод, что Эмпедокл действительно говорил о двойном сотворении и двойном разрушении смертных вещей. Несомненным фактом оказывается наличие определённой «производной когерентности» между первой и второй формацией, с одной стороны, и третьей, и четвёртой - с другой. Если связать эти наблюдения с интерпретацией Strasb. ст. 234-236, из которых следует, что генезис смертных вещей двоякий, то нельзя не прийти к выводу, что Эмпедокл действительно предполагал развитие двойной зоогонии. В рамках одной и той же циклической фазы происходило то порождение и разрушение Любовью, то порождение и разрушение Враждой. Остаётся только предположить, что такая двойственность всегда полностью реализуется в рамках единого космоса. Симметрия макрокосмоса состоит в следующем: с одной стороны, объединяющая сила отдельных и непохожих друг на друга частиц, с другой - зеркально противоположная сила, которая разделяет объединённые частицы и инициирует процесс ὅμοιον ὁμοίῳ. Поэтому нет необходимости для установления идеальной симметрии представлять, что при разрушении Сфайроса объединяющая сила Любви даёт форму второму космосу.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- РГПУ им. А. И. Герцена
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки 48
- Юр. адрес
- 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки 48
- ФИО
- Тарасов Сергей Валентинович (ректор)
- E-mail адрес
- mail@herzen.spb.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 3124477